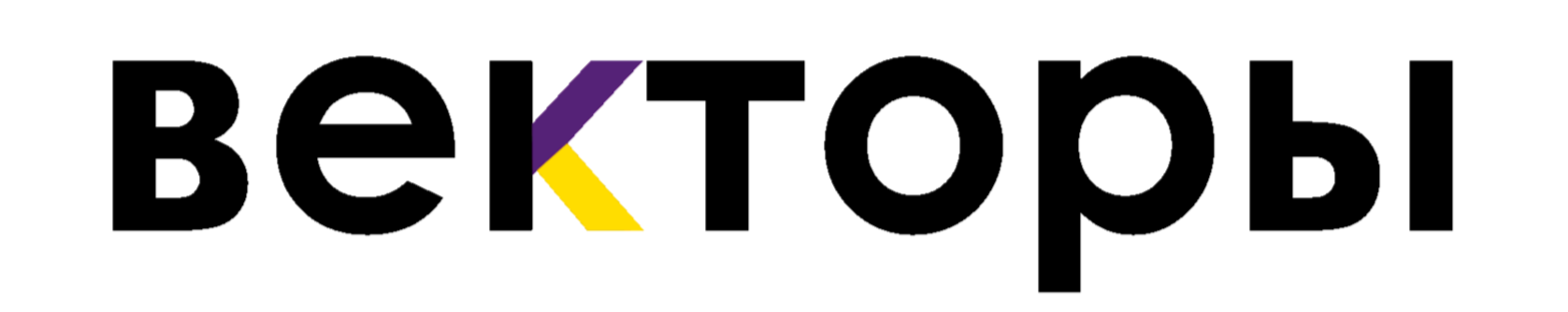К возможности звуковых эпистемологий:
о чем мы говорим, когда говорим о звуке и музыке
о чем мы говорим, когда говорим о звуке и музыке
10-13 апреля, 2025
Формат: на площадке Шанинки, в арт-пространстве «Артемьев», в галерее «Другое Дело» и онлайн
Язык: русский, английский
Организаторы: Максим Жиганов (аспирант НИУ ВШЭ), Анна Ганжа (доцент НИУ ВШЭ), Сэм Кондрин (студент НИУ ВШЭ, Марбургского университета), Арсений Никонов (магистрант НИУ ВШЭ)
Язык: русский, английский
Организаторы: Максим Жиганов (аспирант НИУ ВШЭ), Анна Ганжа (доцент НИУ ВШЭ), Сэм Кондрин (студент НИУ ВШЭ, Марбургского университета), Арсений Никонов (магистрант НИУ ВШЭ)
Аннотация
Исследования звука и музыки после так называемого sensory turn стали развиваться с особой интенсивностью в 1990-е годы, принудительно обновляя язык и аппарат музыковедческих описаний. Линии, по которым прочерчивались исследования шума, звука, молчания, тишины, голоса, слушания и границ музыкального, начали сложным образом переплетаться, одновременно диверсифицируясь и складываясь в особые эпистемические регионы со своим аналитическим аппаратом. Особой ситуацией можно считать инвазии новых теоретических конвенций в практические области, когда музыкальный пост-авангард, новые звуковые картографии, цифровые звуковые этнографии стали объединяться и качественным образом реагировать на комплексные теории звуковой сферы.
Эти анклавы исследований феноменологической, критической, когнитивистской, технологической, исторически-средовой и социальной направленности с середины 2000-х стали, с одной стороны, отдаляться друг от друга, а другой – стихийно объединяться в общие исследования звука и голоса. Парадокс заключается в том, что представитель каждой из таких областей не только не знает о существовании конкурирующих за истину пластов и масштаба уже проделанной интеллектуальной работы, но и не представляет себе альтернативные и взаимодополняющие области, исследующие звук и музыку. Сложилась особого рода эпистемологическая конфигурация, точную характеристику которой дал М. Фуко (2004): «Различные произведения, отдельные книги, все обилие текстов, принадлежащих к одной и той же дискурсивной формации, и множество авторов, знакомых и незнакомых между собой, критикующих, опровергающих, заимствующих друг у друга, независимо друг от друга приходящих к одинаковым взглядам, упрямо сплетающих свои единичные дискурсы в единую сеть, над которой они не властны, всей целостности которой они не замечают и широту которой они плохо себе представляют» (с. 243–244).
Наша секция имеет своей задачей совершить попытку обозреть это поле в целом, концентрируясь на эпистемологиях звуковой и музыкальной сфер. Приветствуются доклады как теоретической, так и эмпирической направленности.
В качестве исследовательского ориентира для докладов можно опираться на следующие вопросы: как устроено знание о звуке? возможно ли связывать в одном онтологическом поле музыку и звук? кто является агентом производства звукового знания? применимы ли категории понимания и смысла в качестве инструментов звуковых эпистемологий? должны ли науки о музыке отказаться от части своего устаревшего языка? что мы знаем о звуке, а что – при помощи него? как должно быть организовано «метазнание», сводящее практическое и теоретическое в единое целое, и есть ли здесь эпистемические опасности? как перевести звук в гуманитарное знание и не потерять при этом исходный объект?
Эти анклавы исследований феноменологической, критической, когнитивистской, технологической, исторически-средовой и социальной направленности с середины 2000-х стали, с одной стороны, отдаляться друг от друга, а другой – стихийно объединяться в общие исследования звука и голоса. Парадокс заключается в том, что представитель каждой из таких областей не только не знает о существовании конкурирующих за истину пластов и масштаба уже проделанной интеллектуальной работы, но и не представляет себе альтернативные и взаимодополняющие области, исследующие звук и музыку. Сложилась особого рода эпистемологическая конфигурация, точную характеристику которой дал М. Фуко (2004): «Различные произведения, отдельные книги, все обилие текстов, принадлежащих к одной и той же дискурсивной формации, и множество авторов, знакомых и незнакомых между собой, критикующих, опровергающих, заимствующих друг у друга, независимо друг от друга приходящих к одинаковым взглядам, упрямо сплетающих свои единичные дискурсы в единую сеть, над которой они не властны, всей целостности которой они не замечают и широту которой они плохо себе представляют» (с. 243–244).
Наша секция имеет своей задачей совершить попытку обозреть это поле в целом, концентрируясь на эпистемологиях звуковой и музыкальной сфер. Приветствуются доклады как теоретической, так и эмпирической направленности.
В качестве исследовательского ориентира для докладов можно опираться на следующие вопросы: как устроено знание о звуке? возможно ли связывать в одном онтологическом поле музыку и звук? кто является агентом производства звукового знания? применимы ли категории понимания и смысла в качестве инструментов звуковых эпистемологий? должны ли науки о музыке отказаться от части своего устаревшего языка? что мы знаем о звуке, а что – при помощи него? как должно быть организовано «метазнание», сводящее практическое и теоретическое в единое целое, и есть ли здесь эпистемические опасности? как перевести звук в гуманитарное знание и не потерять при этом исходный объект?
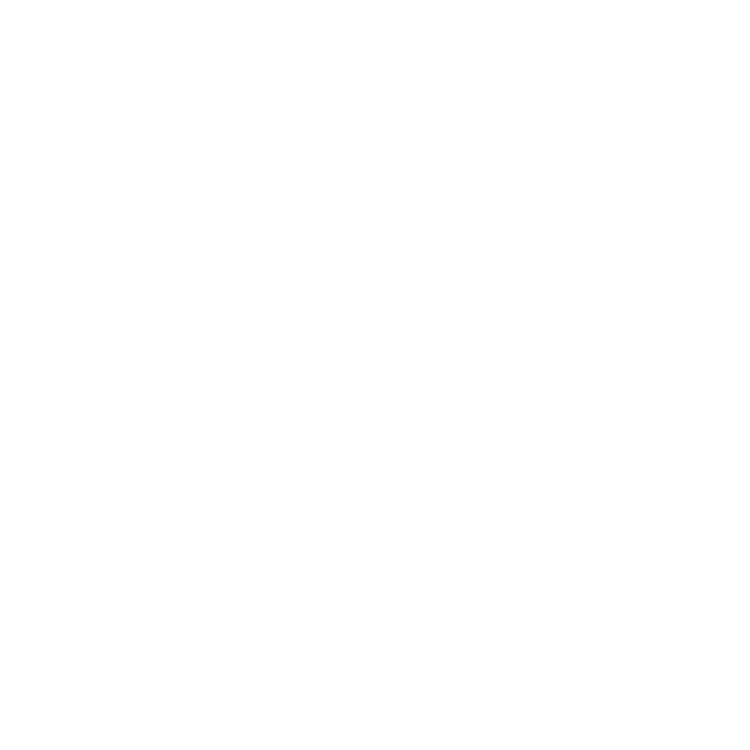




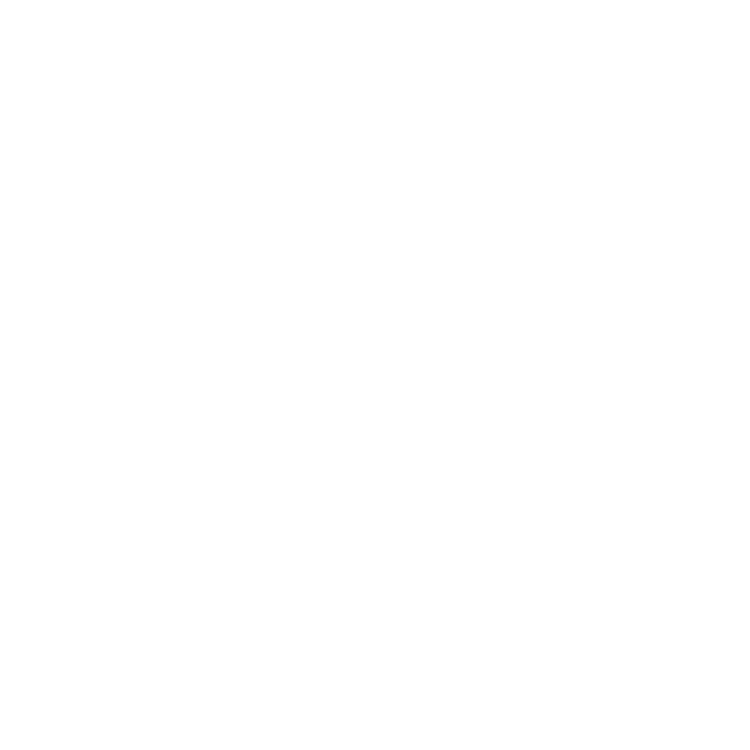




- Фуко, М. (2004). Археология знания. ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга.
- Булгакова, О. (2015). Голос как культурный феномен. Новое литературное обозрение.
- Рясов, А. (2024). Едва слышный гул. Введение в философию звука. Новое литературное обозрение.
- Attali, J. (2009). Noise: The political economy of music. University of Minnesota Press.
- Bonnet, F. (2016). The order of sounds. A sonorous archipelago. Urbanomic Media.
- Bull, M., Back, L. (2015). The auditory culture reader. Routledge.
- Chion, M. (2016). Sound: An acoulogical treatise. Duke University Press.
- Cobussen, M. (2022). Engaging with everyday sounds. Open Book Publishers.
- Cox, C. (2018). Sonic flux: Sound, art, and metaphysics. The University of Chicago Press.
- Dolar, M. (2006). A voice and nothing more. The MIT Press.
- LaBelle, B. (2019). Acoustic territories: Sound culture and everyday life. Bloomsbury Publishing.
- O’Callaghan, C. (2007). Sounds: A philosophical theory. Oxford University Press.
- Schulze, H. (2020). Sonic fiction. Bloomsbury Publishing.
- Sterne, J. (2003). The audible past: Cultural origins of sound reproduction. Duke University Press.
- Thompson, M. (2017). Beyond unwanted sound: Noise, affect, and aesthetic moralism. Bloomsbury Academic.
- Voegelin, S. (2010). Listening to noise and silence: Towards a philosophy of sound art. Bloomsbury Publishing.
Тематические направления
- Современные практики слушания: стриминги, cниппеты, плейлисты.
- Звуковые ландшафты и аудиокультуры.
- Область экспериментального: изучение звука в арт-практиках.
- Звуковое пространство литературы, театра и кино.
- Технологии, материальность и sonic skills.
- Голос: этнография, психоанализ, политическая агентность.
- Звуковая инклюзия в городском пространстве.
- Звук и музыка в перспективе культурных исследований и социологии.
Ключевые спикеры
- Андрей Логутов, к.филос.н., исследователь звука, редактор тематического выпуска по sound studies в журнале "Новое литературное обозрение", переводчик, кафедра немецкой литературы и теории эстетики Университета Гёте (Франкфурт-на-Майне).
- Евгений Былина, теоретик культуры, исследователь звука, музыкант, редактор серии НЛО «История звука».
- Никита Сафонов, философ, исследователь звука, переводчик, поэт. Преподаватель курсов «Звуковое мышление и технопоэтика» и «Экософия исследований звука» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.
- Екатерина Хан, ассистент кафедры онтологии и теории познания РУДН.
- Даниил Небольсин, к. филос.н., исследователь культуры, преподаватель Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, художник.
- Анатолий Рясов, к.полит.н., исследователь звук и литературы, писатель, звукорежиссер, автор книги «Едва слышный гул» (издательство НЛО).
- Александра Колесник, к.ист.н., исследователь в Universität Bielefeld и в Leibniz Center for Literary and Cultural Research - ZfL Berlin.
- Михаил Куртов, к.филос.н, философ, теоретик медиа.
- Ян Левченко, PhD, культуролог, журналист.
Регистрация
Контакты
vectors@universitas.ru
Газетный пер., 3/5с1, Москва