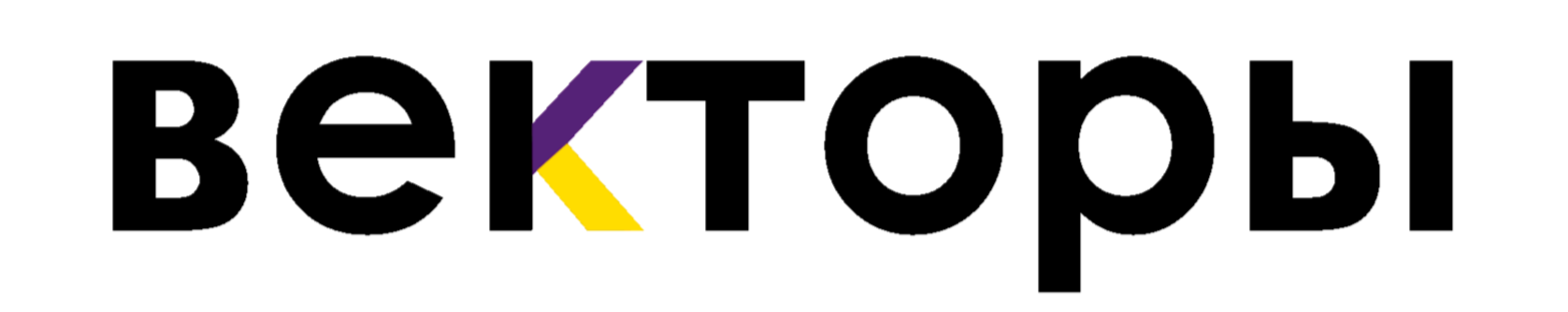Покидая междуцарствие: «старое» и «новое»
в политической теории
в политической теории
10-11, 13 апреля, 2025
Формат: на площадке Шанинки и онлайн
Язык: русский, английский
Организаторы: Михаил Куренков (магистр ЕУСПб), Иван Наумов (аспирант ЕУСПб), Марк Белов (магистр ЕУСПб), Никита Боркунов (м.н.с. ИВИ РАН, преподаватель Шанинки)
Язык: русский, английский
Организаторы: Михаил Куренков (магистр ЕУСПб), Иван Наумов (аспирант ЕУСПб), Марк Белов (магистр ЕУСПб), Никита Боркунов (м.н.с. ИВИ РАН, преподаватель Шанинки)
Аннотация
«Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение» – так итальянский политический мыслитель Антонио Грамши (1971) определял междуцарствие или, в интерпретации Славоя Жижека (2010), «время монстров» – лиминальное положение, характеризующееся утратой всяких коллективных ориентиров и устойчивых теоретических координат, эпоху всеобщей тревоги и разочарования, когда привычные политические идеи и практики уже не работают, а новые – еще не сформулированы и не воплощены. Под угрозой в такой ситуации находятся сами основы человеческой коллективности, «проявляются…», по Грамши (1971), «…самые болезненные симптомы». Именно поэтому в текущем положении множественных и разнообразных кризисов как никогда громко заявляет о себе необходимость поиска альтернатив, актуализируется разговор об истоках нашей совместной жизни и назревает необходимость инвентаризации существующих политических канонов, словарей и языков. Вместе с тем, повсеместные теоретические и практические попытки разоблачения пресловутой и доминировавшей в последние десятилетия идеи «конца истории» не привели к формулированию принципиально новых моделей и концепций будущего. Напротив, они лишь только актуализировали множество самых различных образов прошлого, отсылающих либо к полумифическому и искусственно сконструированному «золотому веку», либо к призывам возвратить «нормальность» и еще так недавно бесконечно длившееся настоящее. Не стоит ли, продолжая грамшианскую метафору рождения, заняться майевтикой – родовспоможением мысли и совместной интеллектуальной работой по поиску новых путей выхода из сложившихся тупиков?
Проблематика «нового» является одной из важнейших для современной политической теории, сразу вбирая в себя несколько основных тем этого дисциплинарного поля – вопросов, связанных с действием, социальным воображением, свободой и тем коллективным субъектом, который является их выразителем. Именно «новое начало» является одним из ведущих понятий политико-теоретического лексикона важного для нас автора, Ханны Арендт (2006), символизирующее для нее как рождение и уникальные деяния каждого конкретного человека, так и основание целых политических коллективностей, республик, с присущей им множественностью человеческих перспектив, отразившихся в памяти и традиции. Но это же принципиальное значение «нового» порождает множество сложных дилемм как внутри аргументации самой Арендт и ее последователей, так и для политической теории вообще.
C помощью чего сохранить дух нового начала в уже основанной республике? Как удержать баланс между постоянным переучреждением политического сообщества и поддержанием устойчивого общего мира? Является ли насилие необходимым условием (пере)основания такого порядка? Где можно обнаружить опыт по-настоящему уникального деяния, а не возвращения к уже опробованным сценариям?
Не менее серьезный интерес вызывают и истоки противоположного стиля мышления, те политические идеи и посылки, результатом триумфа которых стало положение всеобщей деполитизированности, ностальгии, иронического скепсиса и отстранения от коллективного участия. Такие дисциплинарно и даже онтологически разные, но популярные аргументационные ходы как обращение к отдаляющему апокалиптическое событие katechon, модернизационной безальтернативности либерально-демократического устройства или к популярной в консервативной мысли риторике «здравого смысла», как кажется, представляют собой общую линию критики политического новаторства и попытку акцентировать внимание на рисках, опасностях и тщетности любого по-настоящему нового опыта — и, в то же время, крайне ценный теоретический вызов, требующий либо обоснованного подтверждения, либо настолько же сильной критики.
Возможно ли, что только лишь мир регулярной политики, устоявшихся иерархий и привычных правил, тот самый «старый порядок», является тем, что предохраняет нас от экстраординарного хаоса и торжества чрезвычайности или именно он и является их скрытым источником? Способны ли уже классические идеи ответить на новые вызовы или являются только временным и, к тому же, уже необратимо устаревшим решением? Стоит ли держаться за проверенные интеллектуальные альянсы и канонические имена или они - именно то, что без сожалений стоит отбросить?
Наша секция призвана начать разговор как о новых способах мыслить и проговаривать политическое, так и о проблеме Нового внутри самого политического — реактивации утопического воображения, практикам экстраординарной политики, формам учредительной власти, новациям в политическом языке и всему тому, что вступает в оживленное противостояние с известной и почти аксиоматической фразой Маргарет Тэтчер, гласящей: «альтернативы нет».
Проблематика «нового» является одной из важнейших для современной политической теории, сразу вбирая в себя несколько основных тем этого дисциплинарного поля – вопросов, связанных с действием, социальным воображением, свободой и тем коллективным субъектом, который является их выразителем. Именно «новое начало» является одним из ведущих понятий политико-теоретического лексикона важного для нас автора, Ханны Арендт (2006), символизирующее для нее как рождение и уникальные деяния каждого конкретного человека, так и основание целых политических коллективностей, республик, с присущей им множественностью человеческих перспектив, отразившихся в памяти и традиции. Но это же принципиальное значение «нового» порождает множество сложных дилемм как внутри аргументации самой Арендт и ее последователей, так и для политической теории вообще.
C помощью чего сохранить дух нового начала в уже основанной республике? Как удержать баланс между постоянным переучреждением политического сообщества и поддержанием устойчивого общего мира? Является ли насилие необходимым условием (пере)основания такого порядка? Где можно обнаружить опыт по-настоящему уникального деяния, а не возвращения к уже опробованным сценариям?
Не менее серьезный интерес вызывают и истоки противоположного стиля мышления, те политические идеи и посылки, результатом триумфа которых стало положение всеобщей деполитизированности, ностальгии, иронического скепсиса и отстранения от коллективного участия. Такие дисциплинарно и даже онтологически разные, но популярные аргументационные ходы как обращение к отдаляющему апокалиптическое событие katechon, модернизационной безальтернативности либерально-демократического устройства или к популярной в консервативной мысли риторике «здравого смысла», как кажется, представляют собой общую линию критики политического новаторства и попытку акцентировать внимание на рисках, опасностях и тщетности любого по-настоящему нового опыта — и, в то же время, крайне ценный теоретический вызов, требующий либо обоснованного подтверждения, либо настолько же сильной критики.
Возможно ли, что только лишь мир регулярной политики, устоявшихся иерархий и привычных правил, тот самый «старый порядок», является тем, что предохраняет нас от экстраординарного хаоса и торжества чрезвычайности или именно он и является их скрытым источником? Способны ли уже классические идеи ответить на новые вызовы или являются только временным и, к тому же, уже необратимо устаревшим решением? Стоит ли держаться за проверенные интеллектуальные альянсы и канонические имена или они - именно то, что без сожалений стоит отбросить?
Наша секция призвана начать разговор как о новых способах мыслить и проговаривать политическое, так и о проблеме Нового внутри самого политического — реактивации утопического воображения, практикам экстраординарной политики, формам учредительной власти, новациям в политическом языке и всему тому, что вступает в оживленное противостояние с известной и почти аксиоматической фразой Маргарет Тэтчер, гласящей: «альтернативы нет».
- Arendt, H. (2006). On Revolution. Penguin Classics.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers Co.
- Zizek, S. (2010). A Permanent Economic Emergency. New Left Review, (64).
- Негри, А. (2024). Учреждающая власть. Трактат об альтернативах Нового времени. Владимир Даль.
- Хиршман, А. (2021). Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность (2-е издание). Издательский дом ВШЭ.
- Anderson, P. (1992). The Intransigent Right at the End of the Century. London Review of Books, 14(18).
- Arendt, H. (2006). Between Past and Future. Penguin Classics.
- Arvidsson, M., Brännström, L., Minkkinen, P. (Eds.). (2020). Constituent Power: Law, Popular Rule and Politics. Edinburgh University Press.
- Breaugh, M. (2013). The Plebeian Experience: A Discontinuous History of Political Freedom. Columbia University Press.
- Derrida, J. (2005) Rogues: Two Essays on Reason. Stanford: Stanford University Press.
- Fritsch, M. (2005). The Promise of Memory: History and Politics in Marx, Benjamin, and Derrida. State University of New York Press.
- Frost, C. (2021). Language, Democracy, and the Paradox of Constituent Power: Declarations of Independence in Comparative Perspective. Routledge.
- Getachew, A. (2019). Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-Determination. Princeton University Press.
- Harrington, J. (1992). The Commonwealth of Oceana and A System of Politics. Cambridge University Press.
- Honig, B. (2023). Political Theory and the Displacement of Politics. Cornell University Press.
- Kalyvas, A. (2008). Democracy and the Politics of the Extraordinary. Cambridge University Press.
- Rubinelli, L. (2020). Constituent Power: A History. Cambridge University Press.
Тематические направления
- Политика экстраординарного: учредительная власть, агональность, несогласие и stasis
- (Не)возможность острова: утопическая мысль в истории и современной теории
- Angelus melancholicus: философия истории между ностальгией и надеждой
- Новый климатический режим: сталкиваясь с нечеловеческим в политике
- Teoria Arendtiana: практический потенциал и новые прочтения
- We, the People: поиск нового политического языка в истории понятий и лингвистической философии
Темы и предметные области указаны в качестве примеров, ориентиров или источников вдохновения, их список не является конечным, внутренне обособленным и закрытым; для докладов могут быть предложены и другие темы, связанные с проблемами Нового в политике. К участию приглашаются специалисты в области современной философии, политические теоретики, историки, антропологи и социологи.
Ключевые спикеры
- Александр Филиппов, д.с.н., профессор Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, руководитель Центра Фундаментальной Социологии НИУ ВШЭ.
- Вячеслав Кондуров, доцент кафедры конституционного права СПбГУ.
- Андрей Олейников, к.ф.н., приглашенный исследователь Билефельдского университета.
- Алексей Зыгмонт, к.ф.н., независимый исследователь.
- Дмитрий Шустров, д.ю.н., профессор Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
- Артемий Магун, PhD, Institute for Global Reconstitution.
- Антон Сюткин, старший преподаватель Центра практической философии «Стасис», научный сотрудник Лаборатории критической теории культуры НИУ ВШЭ – СПб, научный сотрудник Социологического института - филиала ФНИСЦ РАН.
- Серджио Вердуго, JSD, профессор права IE University.
Регистрация
Контакты
vectors@universitas.ru
Газетный пер., 3/5с1, Москва