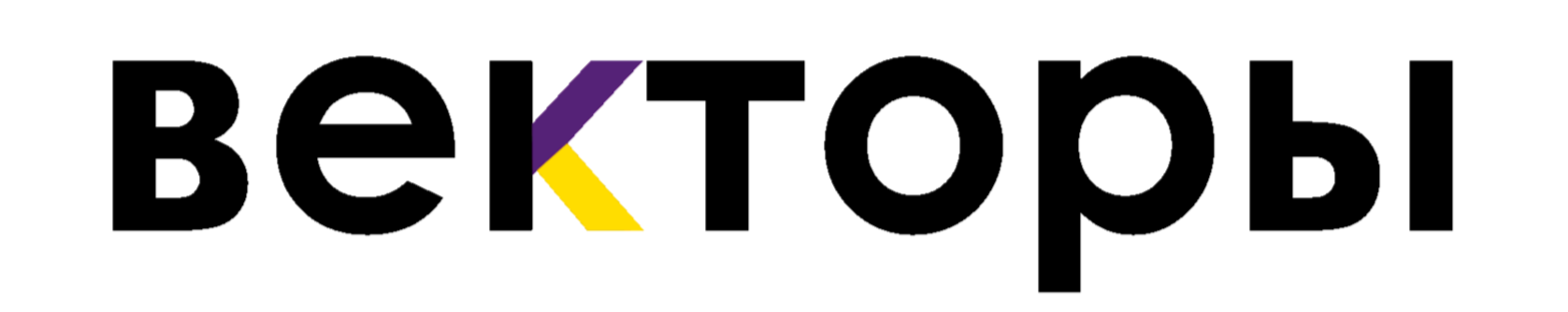Политическая теология:
die Morgenlandfahrt
die Morgenlandfahrt
11-12 апреля, 2025
Формат: на площадке Шанинки и онлайн
Язык: русский, английский
Организаторы: Владимир Бродский (преподаватель Шанинки, РАНХиГС), Владимир Башков (преподаватель НИУ ВШЭ, ЦФС), Александр Рассанов (стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ)
Язык: русский, английский
Организаторы: Владимир Бродский (преподаватель Шанинки, РАНХиГС), Владимир Башков (преподаватель НИУ ВШЭ, ЦФС), Александр Рассанов (стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ)
Аннотация
«…давайте начнем наш крестовый поход, — не в поисках Гроба Господня
на счастливом Востоке, но разыскивая некую печальную могилу
на несчастном Западе. У пустой могилы мы и будем искать его,
это несчастнейшего, пребывая в твердом убеждении, что
он будет нами найден; ибо как томление верующих обращено
к Гробу Господню, так и несчастных тянет на Запад
к этой пустой могиле, и каждый из них исполнен мыслью о том, что
она предназначена ему самому…»
Сёрен Кьеркегор,
«Или-или».
Политическая теология уверенно отвоевывает себе звание ключевой дисциплины современности. Так, сегодня можно наблюдать экспансию политико-теологического дискурса в социальные и политические науки, литературоведение и культурные исследования, политическую риторику и массовую культуру. Помимо распространения в различных сферах научного знания и общественной жизни вновь заявившая о себе дисциплина пересекает пространственные границы и выходит за рамки привычного ареала: о политической теологии говорят и пишут за пределами западного мира, ее обнаруживают во все новых регионах, извлекают из любых религиозных и квазирелигиозных доктрин, предписывают политико-теологическое измерение таким комплексам идей, о которых до сих пор было принято рассуждать в рамках секулярного научного подхода.
Причины столь интенсивного дисциплинарного и пространственного распространения политической теологии могут быть различными и зачастую взаимоисключающими. С одной стороны, мы можем говорить об интеллектуальной колонизации, сохраняющей в своей основе западную оптику и способ мышления. С другой стороны, — об инструментализации и экспроприации политико-теологического дискурса не-западными интеллектуальными и политическими субъектами в своих собственных целях. В совмещении различных оптик мы обнаруживаем встречное движение, а на пересечении этих путей оказываются точки концентрации смысла настоящего момента, побуждающие к рефлексии и решению. Нарастание тенденций универсализации и глобализации политической теологии все чаще приводит к теоретическому напряжению или прямому конфликту с тем изначальным смыслом, который более ста лет назад заложил в свой проект немецкий юрист и политический мыслитель Карл Шмитт.
Стоит отметить, что сам Шмитт не всегда одинаково понимал собственный проект: в зависимости от периода можно говорить о преобладании в политической теологии теории государства, культуркритики, историософии и социологии юридических понятий. Однако именно последний аспект обладает отчетливыми методологическими рамками, позволяющими поставить вопрос об универсальности всего подхода в целом. Возможно ли, опираясь на инструментарий Шмитта, развиваемый его последователями и критиками, описывать феномены не-западных политий? Как техника диктатуры, учреждения порядка ex-nihilo, утверждение суверенитета или обретение экзистенциального врага могут быть осмыслены в нетеологических, атеистических или политеистических контекстах, если изначально все упомянутое подразумевало в той или иной степени опору на христианский теизм? Если же шмиттеанская мысль может быть успешно и беспроблемно инструментализирована — что это говорит о ней самой и ее подразумеваемом имплицитном смысле?
Всё чаще необходимость эффективной конкуренции с западными странами вынуждает остальных агентов заимствовать элементы западных политических моделей. Однако сама возможность такого переприсвоения должна иметь определенные основания в устройстве политического. В связи с этим встает закономерный вопрос: если политико-теологический дискурс в качестве культуркритики всегда был нацелен против ключевых тенденций западного модерна, можно ли выделить в нем — помимо негативного, зачастую пессимистичного содержания — позитивные элементы, указывающие в противоположном Западу направлении?
Движение на Восток может пониматься в географическом аспекте, но оно же есть возвращение к началу, а как всякое движение оно также есть шаг в будущее. Если путь на Восток является легитимным продолжением политико-теологического проекта, то его окончательный, предельный смысл может быть обнаружен в сопряжении противоположностей: в возвращении к истоку и прыжке в неизвестность, в повторении прошлого и заступании в будущее.
Тематические направления
- Социология понятий за пределами секуляризации.
- Политическая теология незападных политий.
- Политическая эсхатология.
- Византизм и Модерн.
- Политическая теология и евразийская традиция.
- Политический эзотеризм и теософия в поисках новой легитимности.
- Суверенное решение между искусством и техникой.
Ключевые спикеры
- Чжэн Ци, PhD, доцент Школы политики и гос. управления Восточно-китайского университета политических наук и права (ECUPL).
- Рустем Ринатович Вахитов, канд. филос. наук, доцент Уфимского университета науки и технологий.
- Булат Венерович Назмутдинов, канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ.
- Вячеслав Евгеньевич Кондуров, канд. юр. наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета СПбГУ.
- Сергей Александрович Ребров, младший научный сотрудник социологического института РАН (филиал ФНИСЦ РАН).
- Владимир Сергеевич Шалларь, независимый исследователь, автор канала Либертарная теология.
Регистрация
Контакты
vectors@universitas.ru
Газетный пер., 3/5с1, Москва