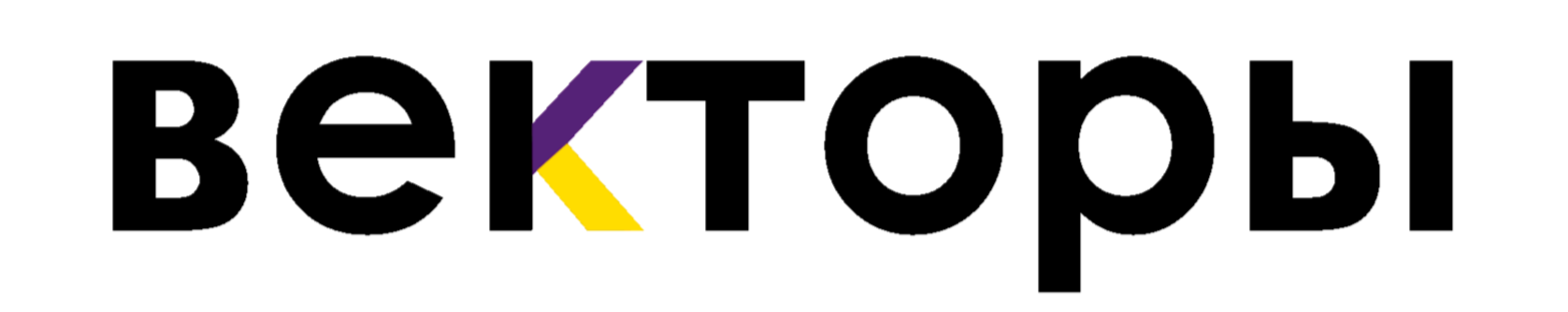Ольфакторное наследие:
как и зачем хранить
запахи прошлого?
как и зачем хранить
запахи прошлого?
10-12 апреля, 2025
Формат: на площадке Шанинки и онлайн
Язык: русский, английский
Организаторы: Дарья Донина (выпускница Шанинки, редактор, куратор, независимая исследовательница)
Язык: русский, английский
Организаторы: Дарья Донина (выпускница Шанинки, редактор, куратор, независимая исследовательница)
Аннотация
Наследие — это практика переживания истории, «культурное производство в настоящем времени, которое обращается к прошлому», и то же можно сказать о запахах. К наследию, как и к запахам, предъявляется много претензий: оно иллюзорно, воображаемо, субъективно, неуловимо как ускользающий аромат, одним словом — не чета истории, которая оперирует зрением и фактами. Ольфакторный опыт, ольфакторный код, ольфакторий — раньше об этом писали в таких терминах, но именно в контексте наследия мир запахов не рассматривался. Появление в международном академическом дискурсе термина «ольфакторное наследие» связывают с растущим интересом к запахам прошлого и к тому, как они могли бы быть восприняты в настоящем. Не последнюю роль в повышении интереса к этой сфере сыграла пандемия COVID-19, ведь одним из симптомов стала потеря обоняния.
Ольфакторное наследие — междисциплинарная среда. Работа с запахами в области наследия таит массу парадоксов: мы чаще всего не видим запах, не можем проследить его траекторию в воздухе, оно неуловимо, но при контакте с реципиентом рождает яркие, тактильно ощутимые образы в сознании и тем самым материализуется. И хотя запах сам по себе нематериален, часто он хранится в материальной оболочке (и именно эти оболочки — флаконы и пудреницы — обычно становятся объектом экспонирования в музее). Из этого вытекает вопрос: можно ли считать сенсорное наследие только нематериальным, или оно включает в себя и материальные элементы?
Умелая работа с запахами в социокультурном пространстве требует специфических компетенций, которые едва ли представлены в среднестатистическом музее или другой институции культуры. В сочетании со слабым уровнем обмена опытом, скудностью описаний ольфакторного компонента выставочных проектов, сложностью хранения «пахучих» музейных экспонатов, трудно гарантировать запахам тот же уровень представленности, который имеют другие артефакты культуры и искусства. Тем временем, доказано, что сенсорный, тактильный, обонятельный опыт соприкосновения с объектами экспозиции положительно сказывается на восприятии посетителей и способствует запоминанию. Дело в том, что в осмысление запахов включены отделы лимбической системы мозга, отвечающие за память и эмоции. Вызывая в воображении посетителей культурных мероприятий яркие впечатления, мы можем создавать иммерсивный опыт не просто как аттракцион, но и как сильное средство воздействия, физического, телесного контакта с прошлым. Исторические запахи в нашем понимании — это не только парфюмы, вышедшие из моды или запахи исчезнувших профессий, но и любые запахи, вызывающие ассоциации с воображаемым прошлым.
Сегодня мы наблюдаем рост интереса к ольфакторным практикам и в России. Об актуальности темы говорят попытки включения запахов в музейные экспозиции: только в 2024 году ароматы были представлены на разных по формату музейных площадках от центров Граунд «Солянки», Музея русского импрессионизма и центра «Зотов» до Музея гаража особого назначения на ВДНХ. Однако далеко не все эти выставки являются удачными кейсы работы с запахами — во многих проектах запахи играют декоративную роль и пока не осмысляются как возможные объекты наследия и как полноценные инструменты экспозиционного сторителлинга.
Хотелось бы пригласить коллег к дискуссии по следующим вопросам:
● Могут ли запахи являться объектами культурного наследия, удавалось ли это в других странах? Какие препятствия, формальные и методологические стоят на пути признания запахов объектами наследия?
● Какие формы сегодня принимает работа с запахами в российском и зарубежном социокультурном поле и какие задачи она выполняет?
● Как можно было бы сегодня сделать видимым (чуемым?) российское ольфакторное наследие?
Иными словами, как и зачем вообще хранить запахи прошлого?
Ольфакторное наследие — междисциплинарная среда. Работа с запахами в области наследия таит массу парадоксов: мы чаще всего не видим запах, не можем проследить его траекторию в воздухе, оно неуловимо, но при контакте с реципиентом рождает яркие, тактильно ощутимые образы в сознании и тем самым материализуется. И хотя запах сам по себе нематериален, часто он хранится в материальной оболочке (и именно эти оболочки — флаконы и пудреницы — обычно становятся объектом экспонирования в музее). Из этого вытекает вопрос: можно ли считать сенсорное наследие только нематериальным, или оно включает в себя и материальные элементы?
Умелая работа с запахами в социокультурном пространстве требует специфических компетенций, которые едва ли представлены в среднестатистическом музее или другой институции культуры. В сочетании со слабым уровнем обмена опытом, скудностью описаний ольфакторного компонента выставочных проектов, сложностью хранения «пахучих» музейных экспонатов, трудно гарантировать запахам тот же уровень представленности, который имеют другие артефакты культуры и искусства. Тем временем, доказано, что сенсорный, тактильный, обонятельный опыт соприкосновения с объектами экспозиции положительно сказывается на восприятии посетителей и способствует запоминанию. Дело в том, что в осмысление запахов включены отделы лимбической системы мозга, отвечающие за память и эмоции. Вызывая в воображении посетителей культурных мероприятий яркие впечатления, мы можем создавать иммерсивный опыт не просто как аттракцион, но и как сильное средство воздействия, физического, телесного контакта с прошлым. Исторические запахи в нашем понимании — это не только парфюмы, вышедшие из моды или запахи исчезнувших профессий, но и любые запахи, вызывающие ассоциации с воображаемым прошлым.
Сегодня мы наблюдаем рост интереса к ольфакторным практикам и в России. Об актуальности темы говорят попытки включения запахов в музейные экспозиции: только в 2024 году ароматы были представлены на разных по формату музейных площадках от центров Граунд «Солянки», Музея русского импрессионизма и центра «Зотов» до Музея гаража особого назначения на ВДНХ. Однако далеко не все эти выставки являются удачными кейсы работы с запахами — во многих проектах запахи играют декоративную роль и пока не осмысляются как возможные объекты наследия и как полноценные инструменты экспозиционного сторителлинга.
Хотелось бы пригласить коллег к дискуссии по следующим вопросам:
● Могут ли запахи являться объектами культурного наследия, удавалось ли это в других странах? Какие препятствия, формальные и методологические стоят на пути признания запахов объектами наследия?
● Какие формы сегодня принимает работа с запахами в российском и зарубежном социокультурном поле и какие задачи она выполняет?
● Как можно было бы сегодня сделать видимым (чуемым?) российское ольфакторное наследие?
Иными словами, как и зачем вообще хранить запахи прошлого?
- Вайнштейн, О. Б. (Сост.). (2010). Ароматы и запахи в культуре: [сб. ст. в 2 кн.]. Кн. 1. Новое литературное обозрение.
- Левент, Н., Паскуаль-Леоне, А. (2022). Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство. Музей современного искусства «Гараж».
- Пироговская, М. (2018). Миазмы, симптомы, улики: запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Завадской, А., Склез, В., Суверина, К. (Ред.). (2019). Политика аффекта: музей как пространство публичной истории. Новое литературное обозрение.
- Classen, C. (2017). The Museum of the Senses: Experiencing Art and Collections. Bloomsbury Publishing.
- Classen, C., Howes, D., Synnott, A. (1994). Aroma: The Cultural History of Smell. Routledge.
- Corbin, A. (1988). The Foul and the Fragrant: Odor and the French Social Imagination. Harvard University Press.
- Reinarz, J. (2014). Past Scents: Historical Perspectives on Smell. University of Illinois Press.
Научные статьи (термин ОН пока фигурирует скорее в статьях, чем в монографиях, поэтому их стоит упомянуть отдельно):
- Гринько, И. А., Шевцова, А. А., Гончаров, А. А. (2022). Ольфакторное восприятие в музее: посетительский опыт. Вестник антропологии, (1), 45–58.
- Bembibre, C., Strlic, M. (2022). From Smelly Buildings to the Scented Past: An Overview of Olfactory Heritage. Frontiers in Psychology, 12.
- Muller, C. (2021, January 18). Odeuropa, Europe’s Olfactory Heritage. Nez, la revue olfactive.
- Tullett, W., Leemans, I., Hsu, H., Weismann, S., Bembibre, C., Kiechle, M., Jethro, D., Chen, A., Huang, X., Otero-Pailos, J., Bradley, M. (2022). Smell, History, and Heritage. The American Historical Review, 127(1), 261–309.
Тематические направления
- Парфюмеры и практики создания исторически достоверных ароматов: трудности концептуализации и поиска фактуры: как будто в этой цепочке не хватает исследователя
- Как музеи могут ответить на запрос на подлинность, в случае если объект, источавший запах, плохо сохранился (вообще, примерно все объекты меняют запах с течением времени, ведь они разлагаются, это неминуемо)?
- Музейные работники о проблемах демонстрации запахов в среде музея
- Музеи, которые предлагают посетителям ольфакторный опыт, вовсе стесняются называться музеями, почему так?
- Этично, корректно ли демонстрировать в залах нарочито неприятные запахи, гниения, горения, телесности, нарушающие границы социальной нормы? А если такова историческая правда?
- Что мы можем предложить международному исследовательскому проекту Odeuropa, цифровому архиву запахов?
- Семантический анализ корпуса русской литературы на предмет ольфакторного
- Границы тела или как менялась ольфакторная норма в России и за ее пределами?
- Удивительная судьба советской парфюмерии – к столетию «Красной Москвы»
Регистрация
Контакты
vectors@universitas.ru
Газетный пер., 3/5с1, Москва