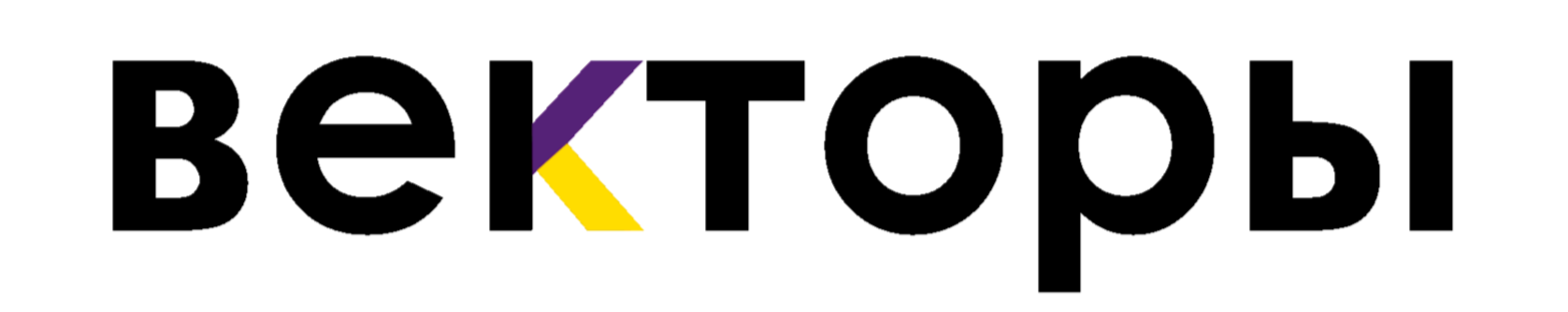Социальные исследования инфраструктур: материальные, эпистемологические, символические условия (не)возможности
10, 12-13 апреля, 2025
Формат: на площадке Шанинки и онлайн
Язык: русский, английский
Организаторы: Антропологическое медиа сбор—ка (Даниил Алексеев, Виктория Кукушкина); Леонид Юлдашев (координатор клуба любителей интернета и общества), Ксения Остапчук (студентка Шанинки)
Язык: русский, английский
Организаторы: Антропологическое медиа сбор—ка (Даниил Алексеев, Виктория Кукушкина); Леонид Юлдашев (координатор клуба любителей интернета и общества), Ксения Остапчук (студентка Шанинки)
Аннотация
Появившись в 1983 году, infrastructure studies прошли большой путь. Сперва интерес вызывали крупномасштабные технические системы, которые и в обыденном языке называются «инфраструктурами» — например, сети электроснабжения (Hughes, 1983). В середине девяностых внимание переходит на практики взаимодействия с инфраструктурой: исследователи предлагают посмотреть на изнанку инфраструктуры и понять, какие отношения она поддерживает, а какие — затрудняет (Star, Ruhleder, 1994; Bowker, 1994). Изначально инфраструктуру понимали как нейтральную технологическую систему, в которой, как отмечает Сьюзан Ли Стар, нечего проблематизировать: «[Инфраструктуры] часто бывают до скучного обыденными — вилки и розетки, стандарты, бюрократические бумаги» (Star, 1999, p. 377). Однако уже к началу 2000-х эта точка зрения была оспорена — именно работы Стар, Джеффри Боукера и Стивена Грехема предложили новое понимание инфраструктур: формирование неравенства, динамику власти и упорядочивание повседневности.
Постепенно в объём понятия «инфраструктуры» были включены и нематериальные объекты — сперва системы классификаций вроде Международного классификатора болезней (Star, Bowker, 1999), а затем и «инфраструктуры знаний» (Edwards et al., 2013). В этот период исследования инфраструктур становились все более междисциплинарными, включая работы по урбанистике (Graham, Marvin, 2001), государственному управлению (Carroll, 2012), работы об информационных системах (Edwards, 2010).
Сейчас infrastructure studies — это исследования не только материальных объектов, но и эпистемических конструкций. Мы можем говорить о символическом значении инфраструктур и об их роли в управлении, организации труда и поддержании идентичности. Как временной порядок курьерской службы влияет на повседневность ее пользователей? Как система ЕМИАС определяет порядок взаимодействия между клиентом и пациентом? На секции нам важно затронуть подобные вопросы, связанные с проблематикой «невидимых инфраструктур», а также обратиться к инфраструктуре как к категории анализа, которая позволит выявить условия возможности различных эпистемологий.
Одна из ключевых характеристик инфраструктуры — ее невидимость и прозрачность, что одновременно наделяет ее практически неограниченной властью, но и делает крайне уязвимой. Это в том числе ставит ряд методологических вопросов перед исследователем — каким образом возможен доступ к закрытой от посторонних внутренней логике работы инфраструктур и возможен ли вообще?
Актуальные исследования используют инфраструктуру в качестве продуктивного эвристического механизма для исследования новых областей, которые раньше маркировались как нерелевантные для социологического и антропологического анализа. «Study the unstudied», — повторяет Сьюзан Ли Стар за Ансельмом Строссом, призывая обращаться к сокрытым, изнаночным сторонам привычного; мы вторим им и приглашаем присоединиться к нашей секции.
Мы принимаем доклады на следующие темы:
Постепенно в объём понятия «инфраструктуры» были включены и нематериальные объекты — сперва системы классификаций вроде Международного классификатора болезней (Star, Bowker, 1999), а затем и «инфраструктуры знаний» (Edwards et al., 2013). В этот период исследования инфраструктур становились все более междисциплинарными, включая работы по урбанистике (Graham, Marvin, 2001), государственному управлению (Carroll, 2012), работы об информационных системах (Edwards, 2010).
Сейчас infrastructure studies — это исследования не только материальных объектов, но и эпистемических конструкций. Мы можем говорить о символическом значении инфраструктур и об их роли в управлении, организации труда и поддержании идентичности. Как временной порядок курьерской службы влияет на повседневность ее пользователей? Как система ЕМИАС определяет порядок взаимодействия между клиентом и пациентом? На секции нам важно затронуть подобные вопросы, связанные с проблематикой «невидимых инфраструктур», а также обратиться к инфраструктуре как к категории анализа, которая позволит выявить условия возможности различных эпистемологий.
Одна из ключевых характеристик инфраструктуры — ее невидимость и прозрачность, что одновременно наделяет ее практически неограниченной властью, но и делает крайне уязвимой. Это в том числе ставит ряд методологических вопросов перед исследователем — каким образом возможен доступ к закрытой от посторонних внутренней логике работы инфраструктур и возможен ли вообще?
Актуальные исследования используют инфраструктуру в качестве продуктивного эвристического механизма для исследования новых областей, которые раньше маркировались как нерелевантные для социологического и антропологического анализа. «Study the unstudied», — повторяет Сьюзан Ли Стар за Ансельмом Строссом, призывая обращаться к сокрытым, изнаночным сторонам привычного; мы вторим им и приглашаем присоединиться к нашей секции.
Мы принимаем доклады на следующие темы:
- Материальные инфраструктуры: по ту сторону технических аспектов
- Работая на инфраструктуру: невидимый труд
- Символические и культурные аспекты инфраструктур
- Эпистемологические объекты как инфраструктуры: классификация, знание, управление
- Инфраструктура как категория анализа: исследования со-производства инфраструктуры и знания, экспертизы, политики
- Инфраструктуризация («infrastructuring») человеческого: от тела до памяти
- (Не)производство доступности: инфраструктурное включение и исключение
- Разрушение и руинирование инфраструктур: упадок, запущенность и ремонт
- «Момент поломки» и другие механизмы обретения видимости
- Инфраструктура сопротивления: социальные движения и политическая борьба
- Спекулятивные инфраструктуры: imaginaries будущих и альтернативных систем
- Bowker, G. C. (1994). Science on the run: Information management and industrial geophysics at Schlumberger, 1920-1940. MIT press.
- Carroll, P. (2012). Water and technoscientific state formation in California. Social studies of science, 42(4), 489–516.
- Edwards, P. (2010). A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Edwards, P. N., Jackson, S. J., Chalmers, M. K., Bowker, G. C., Borgman, C. L., Ribes, D., Burton, M., Calvert, S. (2013). Knowledge Infrastructures: Intellectual Frameworks and Research Challenges. Deep Blue. http://hdl.handle.net/2027.42/97552
- Graham, S., Marvin, S. (2001). Splintering urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. Routledge.
- Hughes, T. P. (1983). Networks of power: electrification in Western society, 1880-1930. Johns Hopkins University Press.
- Star, S. L. (1999). The ethnography of infrastructure. American behavioral scientist, 43(3), 377–391.
- Star, S. L., Bowker, G. (1999). Sorting things out. Classification an its consequences. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Star, S. L., Ruhleder, K. (1994). Steps towards an ecology of infrastructure: complex problems in design and access for large-scale collaborative systems. In Proceedings of the 1994 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 253–264).
Тематические направления
Секция призвана собрать вместе четыре тематических вектора в этой области:
- Исторические исследования инфраструктур как больших технологических систем.
- Социальные исследования материальных инфраструктур.
- Социальные исследования нематериальных и информационных инфраструктур.
- Критические подходы к infrastructure studies.
Регистрация
Контакты
vectors@universitas.ru
Газетный пер., 3/5с1, Москва